|
В 1654 году после возвращeния Смоленска
и окрестных земель в состав московского государства многие представители
смоленской шляхты перешли на службу к русскому царю, за что государь
Алексей Михайлович щедро наделил их земельными наделами. Швеыйковские
относились к представителям смоленской шляхты. У Андрея находились земли
с усадьбой в деревне Прудки, у Юрия – южнее реки Хмары, у Афанасия –
окрестности Данькова. Вокруг были дремучие хвойные леса. Небольшая
деревушка после строительства церкви стала селом, центром прихода. В
состав владения А. Ю. Швыйковского входили многие населённые пункты –
Шаталово, Цыгановка, Алексино, Киселёвка, Хицовка, Свеча (по названию
протекающей здесь речки), Скотинино, Медвёдовка.
Во владении Швыйковских находилось три
церкви, из них две в Прудках. Когда в 1714 году одна сгорела, стольник
смоленской шляхты поручик Юрий Швыйковский бьёт челом Смоленскому
митрополиту Феодосию:
«…в селе Прудках сгорела Николаевская
церковь, а его, Юрия, вотчинные деревни от села Прудков в дальнем
расстоянии и во время полой воды ему, Юрию, и оных его вотчинных
деревень крестьянам и вышеписанное село Прудки для моления к церкви
Божией и для духовных всяких потреб к священникам ездить и посылать
невозможно, – за которой
водой многие его крестьяне и жёны их и дети помирают без
покаяния. И того ради желает и обещается он, Юрий, вместо вышеписанной
погорелой церкви построить в вотчине своей в деревне Данькове вновь
церковь во имя Николая Чудотворца».
1 мая 1714 года он получил разрешение и
грамоту на строительство храма в Данькове. Из архивных документов
известно, что в 1719 году Афанасий Юрьевич Швыйковский завершил
строительство церкви. С этого времени Даньково становится селом, центром
прихода. В его состав вошли владения А. Ю. Швыйковского (деревни
Хицовка, Киселёвка, Цыгановка, Шаталово,
Погари, Свеча, Скотинино, Медвёдовка, Алексино),
вотчинные владения соседей: полковника В. Лесли (Холощёво,
Горбачёво, Проход), ельнинского помещика Д. Верховского (Рудня,
Сяковка, Слободка, Гремячка), подполковника Я.
Реада (Мачулы, Хлыстовка, Дертенки), шляхтича М.
Колечицкого (Демешкино) и рославльского майора С. Жеребцова (Митюли).
В 1798 году сын Афанасия, Владимир
Швыйковский, отремонтировал церковь, перенёс свою усадьбу в
расположенное неподалёку сельцо Красносвятское, а разросшееся Даньково
вскоре разделилось на три поселения: село Даньково, деревни Неведомку и
Мешковку.
Афанасий Юрьевич Швыйковский ещё в
середине ХVIII века в качестве приданого передал ряд деревень с
прилегающими землями своим пяти дочерям, в замужестве получившим фамилии
Потёмкиной, Глинки, Генгросс, Леонтьевой и Нееловой. А затем уже
Владимир разделил оставшуюся часть вотчины между своими двумя дочерьми –
одна вышла замуж за мелкого дворянина И.С. Чижа, другая – за титулярного
советника А.К. Згоржельского. Последняя получила Даньково,
Красносвятское и другие прилегающие деревни. После смерти А.К.
Згоржельского село Даньково перешло к его дочери Марии, в замужестве
Добровольской. Таким образом, фамилия Швейковских как землевладельцев
исчезает уже в 30-е годы ХIХ века.
Даньково тесно связано с родом
Глинок. Бабушка (по
материнской линии)
родоначальника классической музыки Михаила Ивановича Глинки, Елена
Афанасьевна, из рода Повало-Швейковских, имение которых находилось в
Данькове. Елена Афанасьевна
вышла замуж за Андрея Михайловича Глинку из Лучесы, где прошло детство
матери композитора – Евгении Андреевны. В Лучесе жил её брат Иван
Андреевич, хороший музыкант, опекавший талантливого племянника. Второй
брат, Афанасий Андреевич, жил в Шмакове. К нему после смерти родителей и
переехала 8-летняя Женя. Здесь она получила домашнее образование. На всю
округу гремел шмаковский оркестр, где с раннего возраста Миша Глинка
получал первые музыкальные навыки. М.И. Глинка так отзывался о
шмаковских музыкантах: «оркестр моего дяди был для меня источником
самых живых восторгов».
Старая церковь в Данькове простояла 140
лет. Для нового храма нужен был строительный материал, в частности, лес.
В это время велось строительство дороги Витебск-Орёл (в обиходе её
часто называют Смоленск - Рославль), которая проходила через
сосновый бор помещика И.С. Чижа. Он получил вознаграждение, а так
как вовремя не очистил полосу для земляных работ и за это мог
подвергнуться крупному штрафу, то пришлось пожертвовать лес на
строительство новой церкви. В это время в селе было открыто первое
училище для крестьянских детей, которое сначала находилось в ведении
церкви, а затем пepешло земству. Оно выделило денежные средства на
школьное здание и на содержание учителей.
В 1856 году через Даньково пролегла
новая дорога. Через каждые 15-18 вёрст располагались почтовые станции.
На участке Смоленск – Рославль их было четыре: Гринёво, Мурыгино,
Шаталово, Слобода-Новоселье. Однако езда на перекладных далеко не
каждому была по карману. В этом убеждаешься, перелистав Памятную Книжку
Cмoленской губернии за 1864-1865 годы. В ней читаем:
«Прогонные деньги с проезжающих по
всем трактам Смоленской губернии взимаются по две с половиною копейки на
версту и лошадь. Сверх прогонов частные проезжающие должны платить за
данную от станции повозку 12 копеек, за подмазку колёс у кареты, коляски
и брички по 12 копеек, у кибитки и телеги по 6 копеек. Причём сало
должны давать проезжие, а дёготь дается от станции».
Вот уж действительно: не
подмажешь – не поедешь. А в основном наши деды и прадеды ходили
пешком. Отправляясь в дальнюю дорогу, кроме провианта и белья,
прихватывали нож и кочетыжку. Через 40-50 вёрст от лаптей практически
ничего не оставалось. Тогда поворачивали в лес, драли лыко и плели новую
обутку.
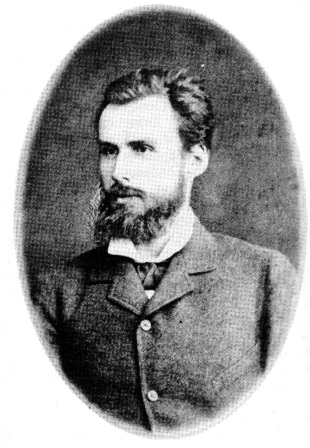 ДАНЬКОВО
вошло в историю и как место жизни и деятельности талантливого
писателя-этнографа, лингвиста, краеведа, неутомимого собирателя устной
народной поэзии Владимира Николаевича Добровольского. ДАНЬКОВО
вошло в историю и как место жизни и деятельности талантливого
писателя-этнографа, лингвиста, краеведа, неутомимого собирателя устной
народной поэзии Владимира Николаевича Добровольского.
Родился Владимир Николаевич 11
августа 1856 года в сельце Красносвятском (по некоторым архивным
данным Красно-Светском) Прудковской волости Смоленского уезда (ныне
Починковского района; сельцо располагалось между деревнями Алексино и
Азаровка) в небогатой семье мелкопоместного дворянина Николая
Михайловича Добровольского (мать Мария Авксентьевна, урождённая
Згоржельская).
Вскоре семья Добровольских построила в
Данькове деревянный дом с пристройками и службами и переехала туда на
постоянное место жительства. Отец Николай Михайлович (до 1817 года
служил чиновником в разных учреждениях Смоленской губернии, а с 1867
года занимал должность мирового судьи в Дмитровском округе Орловской
губернии) любил музыку, живопись, мать Мария Авксентьевна прекрасно
играла на фортепьяно. Любовь к искусству передалась и сыну,
увлечение музыкой, театром у него осталось на всю жизнь.
Мать была образованной женщиной и с
исключительной отзывчивостью относилась к больным крестьянам, часто
приходившим к ней за лекарствами и медицинскими советами. В. Н.
Добровольский вспоминал:
«Беседы моей матери с крестьянами и
крестьянками вводили меня в круг деревенской жизни, деревенского быта».
В 12 лет родители определили его в
Смоленскую гимназию, после окончания которой он сразу поступил на
филологический факультет Московского университета. Студенческие годы
вспоминал с восторгом:
«В Московском университете я слушал
лекции профессора Фёдора Ивановича Буслаева, который смотрел на народный
язык, как на богатейшую сокровищницу изучения прошлого быта народа и его
жизни».
Добровольский принимал участие в работе
этнографического кружка, организованного В.Ф. Миллером, который оказывал
студентам и моральную поддержку. Эти занятия привили ему особую любовь к
народной поэзии. В предисловии к Смоленскому этнографическому сборнику
он писал:
«Посещение этнографических бесед в
доме В. Ф. Миллера было для меня светлой точкой всей студенческой жизни,
и с этой поры я полюбил этнографию, приобрёл некоторый опыт в собирании
материалов и заинтересовался некоторыми этнографическими вопросами».
В 1880 году, закончив университет со
званием действительного студента, был направлен попечителем Московского
учебного округа в Смоленскую женскую гимназию для преподавания истории и
русского языка. Через два года после испытания в Московском университете
ему присвоено звание учителя по русскому языку и словесности. Позже
работал инспектором народных училищ и обслуживал три уезда Смоленской
губернии: Смоленский, Ельнинский и Рославльский (куда входил
Починковский район в нынешних границах).
7 января 1883 года В. Н. Добровольский
подал прошение об отставке и уже 12 февраля был уволен из гимназии по
состоянию здоровья. В это время произошёл раздел наследства. М. А.
Добровольская с сыном Владимиром и его детьми получила в наследство село
Даньково и до 200 десятин земли. Усадьбу строили заново. К 1887 году
Добровольские имели небольшой деревянный усадебный дом, 2 жилых дома
поменьше и ряд хозяйственных построек. Здесь Владимир Николаевич жил и
работал по 1920 год, создал замечательные научные труды, вошедшие затем
в сборники. Сотни песен, преданий, пословиц, поговорок, рассказов
записаны им со слов даньковских, самохотовских и хицовских крестьян.
Пешие этнографические экспедиции он совершал и в более отдалённые
деревни – Бердибяки, Плоское, Рудню. Часто беседовал с теми, кто
проходил через починковскую землю, например, с рабочими и крестьянами
Калужской губернии. Академиком А.А. Шахматовым высоко была оценена
работа В.H. Добровольского «Данные языка калик перехожих Дулевской
волости, села Красного бора, записанные в с. Прудках» («Смоленская
старина», 1916 год). О его деятельности своё авторитетное слово
высказывали академики А .Н. Пыпин, Б. И. Ламанский, Д. К. Зеленин, С. А.
Венгеров, К. Г. Залеман. Его исследования, вне всякого сомнения,
существенно обогатили наши представления о фольклорных традициях
крестьян центрального региона России и стали весомой частью нашей
современной духовной национальной культуры.
За первый том Смоленского
этнографического сборника (а всего издано четыре тома. 1891-1903 гг.) В.
Н. Добровольского избрали сотрудником Географического общества и выдали
300 рублей на продолжение этнографических работ. После издания
«Смоленского областного словаря» (1914 г.) он стал ежегодно получать
субсидию в 360 рублей, а за материал о киселёвских цыганах,
представленный в Академию Haук, с 1896 гoда стали выплачивать денежное
пособие по 600 рублей. Материальная помощь была, но не существенна,
всё-таки этих средств было недостаточно (командировочных в то время
не платили) и, как он пишет в одном из предисловий, «жить было
весьма и весьма трудно». Об этом говорит в письмах к академикам А.
А. Шахматову, В. Ф. Миллеру.

|